Карбоновый полигон - это исследовательский центр для наблюдений за потоками основных климатически активных (парниковых) газов, расположенный на природной территории, доминирующей в своем регионе. Учитывая, что разные виды растений в разной степени поглощают и выделяют углекислый газ, биологи и экологи занимаются подбором самых эффективных. Исследования на карбоновых полигонах являются основой для реализации климатических проектов. В России уже функционирует 19 карбоновых полигонов с суммарной площадью более 300 тысяч гектаров. За работу каждого из них отвечают крупные вузы и научные организации, а в качестве партнеров выступают промышленные предприятия.
Подробнее о карбоновых полигонах «Древу жизни» рассказал кандидат биологических наук, директор ботанического сада Уральского федерального университета, руководитель полигона «Урал-Карбон» Виктор Валдайских.
Подробнее о карбоновых полигонах «Древу жизни» рассказал кандидат биологических наук, директор ботанического сада Уральского федерального университета, руководитель полигона «Урал-Карбон» Виктор Валдайских.
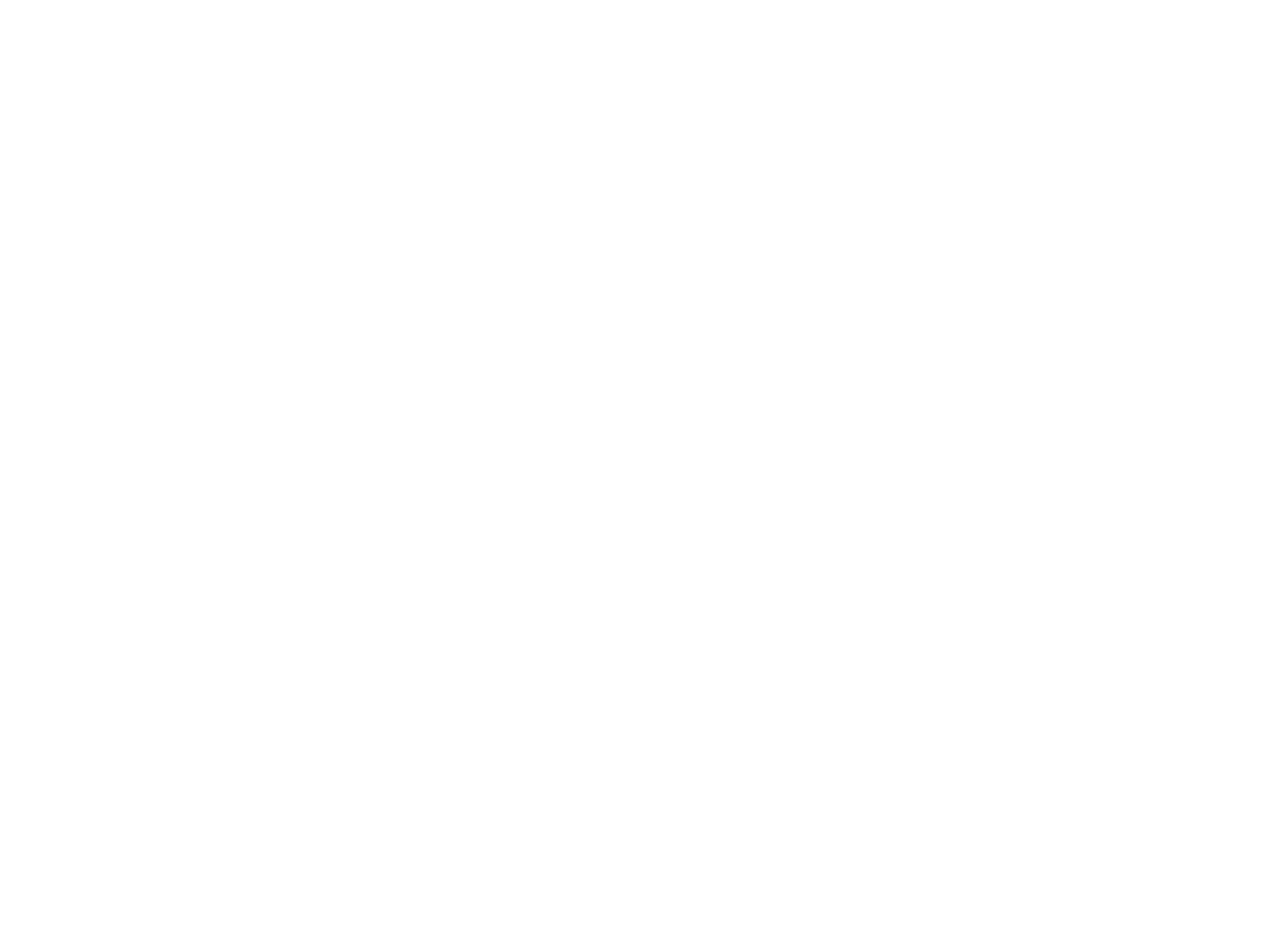
-Виктор Владимирович, правда ли что карбоновые полигоны помогут России выйти на углеродную нейтральность? Если да, то в какие сроки?
- Сначала о сроках. Согласно взятым на себя обязательствам в рамках Парижского соглашения Россия должна выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Но это совсем не значит, что мы можем отложить решение этого вопроса – есть четко обозначенные промежуточные этапы, первый из которых наступает уже в 2030 году. И карбоновые полигоны за счет количественных оценок фактической способности наших природных экосистем поглощать парниковые газы из атмосферы должны помочь стране выйти на углеродную нейтральность.
Ни одна страна в мире, в том числе и наша, не сможет снизить до нулевого показателя выбросы парниковых газов, несмотря на все новые технологии, электромобили, всевозможные фильтры и возобновляемые источники энергии, углекислый газ и метан всегда будут поступать в атмосферу. Углеродная нейтральность заключается в том, что каждая конкретная страна, город, корпорация, предприятие и т.д. должны столько же поглощать, сколько выбрасывают.
И вот здесь и включаются в работу карбоновые полигоны, охватывающие по всей стране основные природные экосистемы, в том числе водные и морские. Поскольку мы должны правильно определить углеродный баланс природных сообществ: лесов, лугов, полей, болот, которые в нашей стране огромны и разнообразны как нигде в мире. Мы все же склонны считать, что они больше поглощают, чем выделяют, и их секвестирующая (поглощающая, - прим. ред.) способность достаточно велика.
Кроме того, в функции карбоновых полигонов входит разработка секвестирующих углерод технологий, прежде всего природоподобных. Мы должны помочь природным сообществам быстрее и на более длительный срок захватывать из атмосферы углерод. Это совершенно новая отрасль экономики, которой пророчат стремительное развитие.
- Какие задачи ученые решают на полигоне «Урал-Карбон»? В чем уникальность Вашего карбонового полигона?
- Деятельность нашего полигона многогранна и разнообразна - как и любого другого карбонового полигона - от мониторинга содержания в атмосфере парниковых газов и инвентаризации в природных экосистемах пулов его хранения, до реализации конкретных решений по его секвестированию. В задачи карбоновых полигонов входит также образовательная и просветительская работа. Но все же все полигоны разные. Прежде всего потому, что они работают в разных природных условиях. Наш полигон, например, ставит перед собой задачу прежде всего определить баланс углерода в хвойных лесах – Свердловская область на 70% представлена именно такими лесами. Уникальность каждого полигона определяется и составом их участников, несмотря на то, что мы обязаны работать по одним и тем же методикам, все же в проект приходят сложившиеся научные коллективы зачастую со своими наработками и компетенциями. У нас, как мне кажется, очень сильный и сбалансированный коллектив, представляющий четыре учреждения Уральского отделения РАН и три университета, каждый из которых в проекте выполняет свои задачи. Так, кроме оценки углеродного баланса на территории региона, на полигоне «Урал-карбон» реализуют различные климатические проекты, такие как экспериментальные карбоновые фермы. Например, один из проектов – изучение полного цикла выращивания и переработки углероддепонирующих растений: технической конопли и льна. Поясню: углероддепонирование – это поглощение диоксида углерода из атмосферы и накопление углерода в стоке на длительный срок. Другая экспериментальная карбоновая ферма реализуется на рекультивируемом гранитном карьере. На его поверхности создали различные условия для роста высаживаемой древесной растительности. Отмечу, что Свердловская область, да и Урал в целом, – это регион с большими площадями земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью. Проект предполагает на таких землях депонировать углерод на долгие годы в древесину и почву. Полученные данные позволят распространить опыт на другие нарушенные земли. Согласно предварительным расчетам, через 15-20 лет скорость депонирования углерода (в пересчете на углекислый газ) на них будет составлять порядка 20 тонн СО2 на гектар в год. Значительные площади заняты карьерами и отвалами, нуждающимися в рекультивации. Стоит задача восстановления нарушенных земель: отвалов вскрышных пород и отходов обогащения руды, хвостохранилищах, сухих и влажных золоотвалах, гидроотвалах. Есть и другие проекты, такие как получение биоугля из травянистых растений и изучение их мелиоративных и углероддепонирующих свойств. Работа идет в разных направлениях.
- Каковы промежуточные итоги исследовательской работы на полигоне?
- Вы знаете, Министерством образования и науки Российской Федерации, которое является инициатором этой программы, перед каждым карбоновым полигоном поставлена конкретная цель – определить, как совокупный природный углеродный баланс того региона, который он представляет, так и конкретных природных сообществ – у природы ведь нет административных границ, эти границы выделяются по совершенно другим принципам. Кроме того, карбоновые полигоны должны научиться получать эти значения дистанционными методами – всю нашу огромную страну невозможно снабдить станциями, которые бы измеряли углеродные потоки наземными методами. И мы одними из первых подошли к достижению этой цели. Мы посчитали поглотительную способность наших уральских лесов и пришли к неутешительному, но пока еще промежуточному, выводу, что они поглощают лишь порядка десятой части тех парниковых газов, что выбрасываются промышленным и транспортным секторами Свердловской области. Природные сообщества нашего региона ежегодно поглощают и, скажем так, «переводят на длительное хранение» 7–9 миллионов тонн CO₂, в то время как промышленные предприятия и транспорт выбрасывают около 75 миллионов тонн.
- Сначала о сроках. Согласно взятым на себя обязательствам в рамках Парижского соглашения Россия должна выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Но это совсем не значит, что мы можем отложить решение этого вопроса – есть четко обозначенные промежуточные этапы, первый из которых наступает уже в 2030 году. И карбоновые полигоны за счет количественных оценок фактической способности наших природных экосистем поглощать парниковые газы из атмосферы должны помочь стране выйти на углеродную нейтральность.
Ни одна страна в мире, в том числе и наша, не сможет снизить до нулевого показателя выбросы парниковых газов, несмотря на все новые технологии, электромобили, всевозможные фильтры и возобновляемые источники энергии, углекислый газ и метан всегда будут поступать в атмосферу. Углеродная нейтральность заключается в том, что каждая конкретная страна, город, корпорация, предприятие и т.д. должны столько же поглощать, сколько выбрасывают.
И вот здесь и включаются в работу карбоновые полигоны, охватывающие по всей стране основные природные экосистемы, в том числе водные и морские. Поскольку мы должны правильно определить углеродный баланс природных сообществ: лесов, лугов, полей, болот, которые в нашей стране огромны и разнообразны как нигде в мире. Мы все же склонны считать, что они больше поглощают, чем выделяют, и их секвестирующая (поглощающая, - прим. ред.) способность достаточно велика.
Кроме того, в функции карбоновых полигонов входит разработка секвестирующих углерод технологий, прежде всего природоподобных. Мы должны помочь природным сообществам быстрее и на более длительный срок захватывать из атмосферы углерод. Это совершенно новая отрасль экономики, которой пророчат стремительное развитие.
- Какие задачи ученые решают на полигоне «Урал-Карбон»? В чем уникальность Вашего карбонового полигона?
- Деятельность нашего полигона многогранна и разнообразна - как и любого другого карбонового полигона - от мониторинга содержания в атмосфере парниковых газов и инвентаризации в природных экосистемах пулов его хранения, до реализации конкретных решений по его секвестированию. В задачи карбоновых полигонов входит также образовательная и просветительская работа. Но все же все полигоны разные. Прежде всего потому, что они работают в разных природных условиях. Наш полигон, например, ставит перед собой задачу прежде всего определить баланс углерода в хвойных лесах – Свердловская область на 70% представлена именно такими лесами. Уникальность каждого полигона определяется и составом их участников, несмотря на то, что мы обязаны работать по одним и тем же методикам, все же в проект приходят сложившиеся научные коллективы зачастую со своими наработками и компетенциями. У нас, как мне кажется, очень сильный и сбалансированный коллектив, представляющий четыре учреждения Уральского отделения РАН и три университета, каждый из которых в проекте выполняет свои задачи. Так, кроме оценки углеродного баланса на территории региона, на полигоне «Урал-карбон» реализуют различные климатические проекты, такие как экспериментальные карбоновые фермы. Например, один из проектов – изучение полного цикла выращивания и переработки углероддепонирующих растений: технической конопли и льна. Поясню: углероддепонирование – это поглощение диоксида углерода из атмосферы и накопление углерода в стоке на длительный срок. Другая экспериментальная карбоновая ферма реализуется на рекультивируемом гранитном карьере. На его поверхности создали различные условия для роста высаживаемой древесной растительности. Отмечу, что Свердловская область, да и Урал в целом, – это регион с большими площадями земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью. Проект предполагает на таких землях депонировать углерод на долгие годы в древесину и почву. Полученные данные позволят распространить опыт на другие нарушенные земли. Согласно предварительным расчетам, через 15-20 лет скорость депонирования углерода (в пересчете на углекислый газ) на них будет составлять порядка 20 тонн СО2 на гектар в год. Значительные площади заняты карьерами и отвалами, нуждающимися в рекультивации. Стоит задача восстановления нарушенных земель: отвалов вскрышных пород и отходов обогащения руды, хвостохранилищах, сухих и влажных золоотвалах, гидроотвалах. Есть и другие проекты, такие как получение биоугля из травянистых растений и изучение их мелиоративных и углероддепонирующих свойств. Работа идет в разных направлениях.
- Каковы промежуточные итоги исследовательской работы на полигоне?
- Вы знаете, Министерством образования и науки Российской Федерации, которое является инициатором этой программы, перед каждым карбоновым полигоном поставлена конкретная цель – определить, как совокупный природный углеродный баланс того региона, который он представляет, так и конкретных природных сообществ – у природы ведь нет административных границ, эти границы выделяются по совершенно другим принципам. Кроме того, карбоновые полигоны должны научиться получать эти значения дистанционными методами – всю нашу огромную страну невозможно снабдить станциями, которые бы измеряли углеродные потоки наземными методами. И мы одними из первых подошли к достижению этой цели. Мы посчитали поглотительную способность наших уральских лесов и пришли к неутешительному, но пока еще промежуточному, выводу, что они поглощают лишь порядка десятой части тех парниковых газов, что выбрасываются промышленным и транспортным секторами Свердловской области. Природные сообщества нашего региона ежегодно поглощают и, скажем так, «переводят на длительное хранение» 7–9 миллионов тонн CO₂, в то время как промышленные предприятия и транспорт выбрасывают около 75 миллионов тонн.
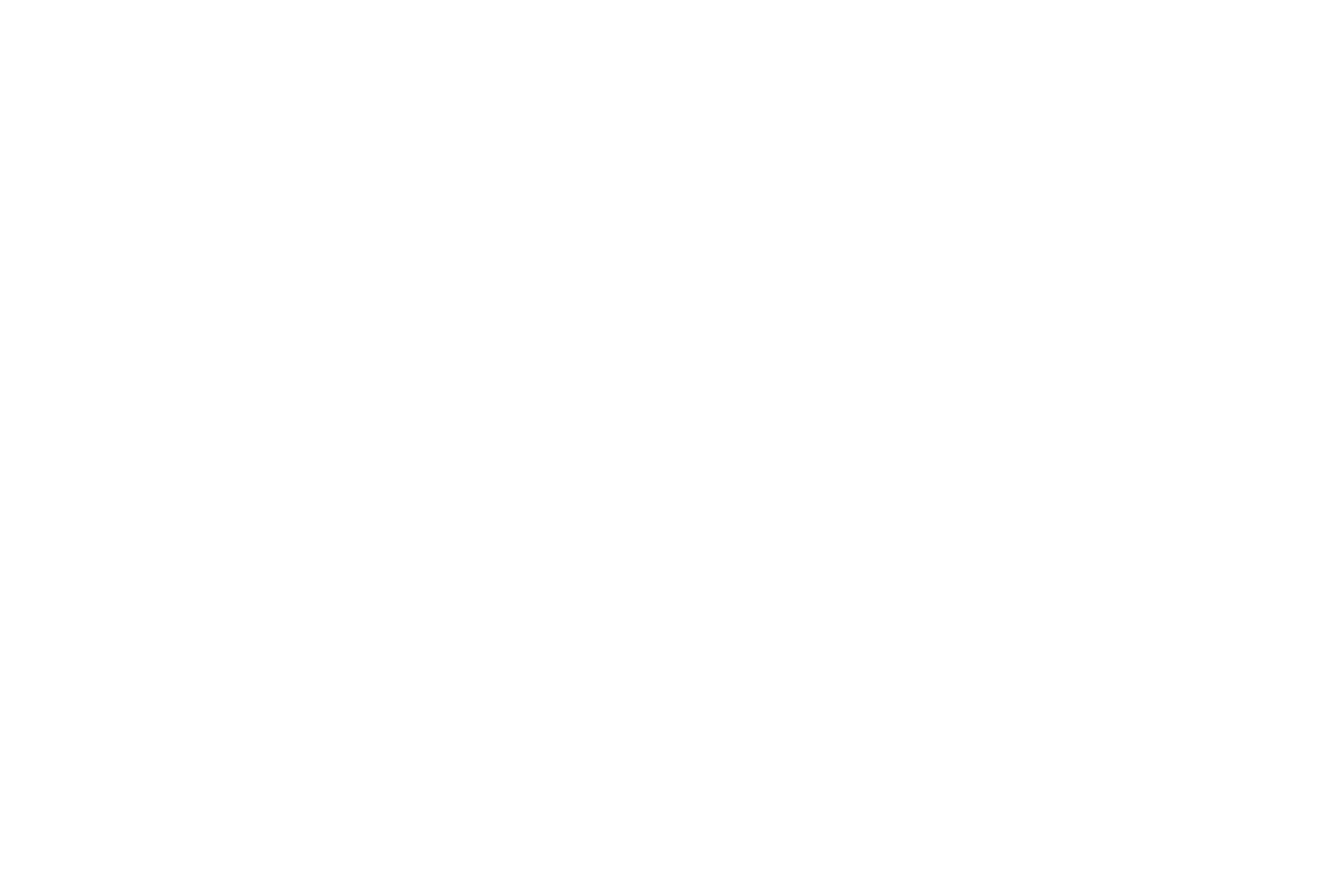
- Звучит неутешительно. А какие инновационные технологии используются на полигоне для мониторинга выбросов и поглощения CO₂?
- Мы используем самое современное мониторинговое оборудование, которое применяется для этих целей во всем мире. Это важный момент –полученные нами значения должны быть признаваемы международным сообществом – иначе нам никогда не доказать наш углеродный суверенитет, если мы его достигнем. Одной из наиболее инновационных технологий, позволяющих рассчитать балансы углерода, является так называемый метод турбулентных пульсаций. И мы, благодаря Министерству образования и науки Российской Федерации, обладаем двумя такими комплектами оборудования. Единственное, хотел бы уточнить – мы не занимаемся мониторингом промышленных выбросов парниковых газов, это задача иного порядка – должна существовать система их мониторинга и контроля на самих предприятиях, и эта система в настоящее время выстраивается. Наша приоритетная задача – это строго количественно оценить природные потоки.
- Как климатические и почвенные особенности Свердловской области влияют на стратегии лесовосстановления?
- Очень влияют. Большая часть Свердловской области – это таежные леса, располагающиеся преимущественно на дерново-подзолистых почвах. Наше положение в таежной зоне способствует успешному проведению лесовосстановления, но речь идет прежде всего о компенсационном лесовосстановлении, когда пользователь обязан посадить лес на такой же площади, которую он изъял для каких-либо нужд. Но в смысле климатической повестки благоприятные условия для лесовосстановления – это не очень удобно, потому что слишком высокая базовая линия (лес в таежной зоне растет хорошо и без помощи человека) не позволяет найти здесь принцип дополнительности, чтобы такой проект мог считаться природно-климатическим. Поэтому мы вынуждены искать места, где лес без помощи человека не растет. Идеальным объектом для этого, как нам кажется, являются нарушенные земли, прежде всего – отвалы и карьеры горнодобывающей промышленности, развитой в Свердловской области.
- Есть ли примеры успешного восстановления деградированных земель в регионе? С какими трудностями сталкиваются специалисты?
- Такие примеры есть, но они не столь масштабны, как нам хотелось бы, и выполнены вне климатической повестки. В то же время у нас в регионе трудятся потрясающие специалисты по рекультивации земель, способные организовать такую работу на разных типах нарушений. Трудности? Это преимущественно каменистый и зачастую – токсичный для растений характер субстрата, большое разнообразие таких субстратов, что требует разных подходов к рекультивации. Это приводит к высокой стоимости рекультивационных работ – необходимо выполнить достаточно затратный технический этап и требуется большое количество плодородного грунта. Есть трудности юридического характера – принадлежности этих земель. Но при должном подходе все это решаемо. И в случае выполнения такого проекта – кроме климатического эффекта мы получаем еще социальный и экологический – избавляемся от самых настоящих незарастающих «язв» на нашей планете.
- Какие виды деревьев наиболее эффективны для лесовосстановления на Урале с точки зрения поглощения углерода?
- Как ни странно, но наиболее эффективны привычные нам аборигенные (коренные) виды: сосна, ель, лиственница, береза, из интродуцентов (то есть чужеродных видов) – тополь. Конечно, мы работаем с новыми видами, непривычными для нашего региона, их десятки. И у некоторых из них мы фиксируем величину приростов больше, чем у традиционных деревьев. Но надо понимать, что заносить их в природную среду мы не можем.
- Как оценивается влияние новых лесных насаждений на местные экосистемы и биоразнообразие?
- Если мы будем работать с лесонасаждениями на основе аборигенных видов, да еще и будем применять модный сейчас способ смешанных посадок, то исключительно положительно. Мы возвращаем природную среду в прежнее, ненарушенное состояние. Конечно, с оговоркой, что мы работаем в лесной зоне, где изначально росли деревья.
- Как «Урал-Карбон» взаимодействует с научными и промышленными организациями в рамках климатических проектов?
- Как я уже сказал – в нашем проекте участвуют все профильные научные и образовательные организации региона: Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский государственный аграрный университет, Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН, Институт промышленной экологии УрО РАН, Институт математики и механики УрО РАН, Ботанический сад УрО РАН. Оператором полигона является Уральский федеральный университет. В числе технологических партнеров – крупные уральские холдинги: Трубная металлургическая компания и «Синара-Транспортные машины». Мы открыты для всех, кто интересуется углеродной тематикой и готов к выполнению научных или практических задач, направленных на мониторинг парниковых газов или на разработку путей снижения выбросов или увеличения секвестрации атмосферного углерода.
- Какие варианты сотрудничества могут быть у «Урал-Карбон» с некоммерческими организациями, такими как «Древо жизни» в сфере лесовосстановления?
- Важная задача карбонового полигона Свердловской области – сопровождение и участие в выполнении природно-климатических проектов, направленных на разработку и практическое внедрение природоподобных технологий, направленных на «извлечение» атмосферного углерода из атмосферы. Важно понимать, что более действенного способа извлечения атмосферного углерода, чем фотосинтез, на планете пока не существует. Даже отложения известняков на дне океанов начинается с фотосинтеза. На суше природоподобные технологии обеспечивают долговременное его хранение прежде всего в древесине и в гумусе почв – нам нельзя допускать быстрой минерализации органики, как, например, это происходит в случае травянистых растений и сельхозкультур.
Поэтому лесоразведение и лесовосстановление можно рассматривать как одни из наиболее приоритетных направлений природно-климатических проектов. Мы живем в интересное время, когда многие экологические задачи становятся климатическими. Роль некоммерческих организаций неоценима – именно они зачастую способны выполнять масштабные и амбициозные проекты, не связанные с извлечением быстрой прибыли или прибыли вообще. Мы знаем, что «Древо жизни» уже реализовало масштабные посадки деревьев по всей стране, мы, свою очередь, предлагаем проводить такие работы с определенной целью и на строго научной основе – у нас в проекте работают замечательные специалисты в этой области, которые могут сопровождать такие работы.
Фото: пресс-службы УрФУ